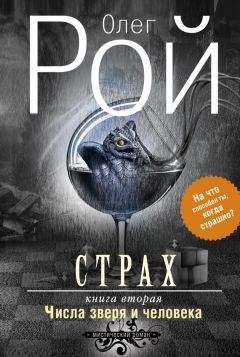– Вот именно. Нас ведь губит, привязывает к грязи сама наша природа. Порочное зачатие, как очень верно называли это древние. «От плоти, от похоти отца, от похоти матери…» Если бы этого не было! Если бы люди не знали этих плотских, низменных страстишек и привязанностей, не было бы ни детских неврозов, ни комплексов, ни страхов; ни суеверий, ни религии, никакого мракобесия!
– А как же любовь? Ты и ее отрицаешь?
– Почему же? Если люди обладают сходными характерами, схожими убеждениями, если им вместе комфортно – это хорошо. Но когда любовь превращается в кабальную зависимость, когда она напитывается вином страстей и ревности – это несомненное зло.
Я отмахнулась от него:
– А я понимаю любовь совсем по-другому. По-моему, любовь без доверия, без заботы, без жертвенности – пустая и нелепая штука. И не любовь это вовсе.
Лев улыбнулся. Кстати, улыбался он редко, и от каждой его улыбки почему-то становилось страшно.
– Ты – как Алекс, – сказал он. – Такая же неисправимая идеалистка и максималистка. Хотя он гораздо хуже. Ты-то просто ничего не понимаешь, а он… он понимает, но все равно выбирает преступно ложный путь. Страсть, жертвенность – это ошибки человеческой программы. Это сбой в картине мира. Это разрушение, приводящее стройную систему в хаос, ведущее мир к энтропии. Страсть – это то, что роднит человека с животным и удаляет от его божественной природы».
Такой я маму не знал… Здесь, со страниц дневника, она говорила со мной еще юная, полная сил и веры в жизнь. Да, ее можно было упрекнуть в каком-то максимализме, но это был вполне здоровый, естественный максимализм. Очень по-человечески понятный. А Ройзельман… Ройзельман уже и тогда казался безмерно старым и безмерно холодным. Бесчеловечным. Собственно, почему «казался»? Если он тогда был таким и сейчас не изменился, значит, он всегда был бесчеловечным. Можно только гадать, почему. Скорее всего, мы этого так никогда и не узнаем.
«Если бы людей можно было выпускать, как машины! Без этого патологического процесса вынашивания эмбриона, без его связи с матерью, без прямого вмешательства отца! Я мечтаю создать человека из ребра, из глины, из чего угодно, так, как это сделали выдуманные людьми боги. Это задача, достойная человекобога. Вот к чему я должен стремиться».
Мне стало по-настоящему страшно. Ведь я, по сути, первый результат этой безумной мечты! Я не был связан с матерью пуповиной, я был создан бездушной машиной – аппаратом Ройзельмана!
Отложив дневник, я погрузился в тяжелые, почти невыносимые мысли.
Было ли мне стыдно? Разумеется. Читать чужие письма или дневники недопустимо. Но я не мог этого не сделать. Пусть я буду стыдиться этого всю свою жизнь…
Кажется, совсем недавно я уже говорил себе нечто подобное: горечь, с которой придется жить.
Мама! Не потому ли я смог принести в жертву собственную мать, что я – человек из аппарата? Я же не знаю, что чувствуют люди, рожденные естественным путем. Ведь не просто так люди Корпорации столь пристально – всю жизнь! – наблюдали за мной, снимали с моего организма все показания, бесконечно делали анализы, расспрашивали.
Сейчас моя мама лежит одна-одинешенька с этим проклятым АР, разрушающим ее, умирающая, а я сижу здесь, читая ее дневник. Наверное, ребенок, которого она выносила бы во чреве, который был бы связан с ней пуповиной, не смог бы (но откуда мне это знать?) бросить ее в таком положении. Так, может, Ройзельман все-таки добился своей «высокой цели»?
Нет!
Я повторил это слово много раз, как монах-исихаст[14] истово повторяет молитву «Господи, помилуй…». Я повторял, повторял, повторял, и с каждым повторением моя уверенность крепла и крепла. Я человек. Я дышу, думаю и чувствую.
Я хочу помочь Феликсу, Рите, Марии – всем, черт побери! Если бы я был «сверхчеловеком», некой новой стадией эволюции вида Homo sapiens, как мечтал этот маньяк, тогда мне было бы все равно. Что из этого следует? Из этого следует, что Ройзельман – промахнулся.
Именно я, первое из его творений (почему-то я был в этом уверен), могу стать либо его победой, либо полнейшим поражением. И выбор только за мной – не за ним. Но я не хочу быть его победой! Значит, он уже проиграл.
Но этого еще мало. Я должен остановить его. И я должен доказать его проигрыш всему миру.
Подождав, пока проснется Мария, я изложил ей свой план. Когда я начал рассказывать обо всем, что знаю, она выглядела очень испуганной, но к финалу моего «доклада» лицо ее дышало решимостью.
– Вы правы, – сказала она (мы так и не перешли с ней на «ты»). – Нам придется рискнуть. Мы не можем все время прятаться и подвергать риску наших родных. Слишком много стоит на кону. Я пойду с вами.
– Нет, – жестко сказал я. – Мария, простите меня за откровенность, но вы будете мне обузой. Мне придется действовать быстро, предстоит очень долгий путь – я собираюсь запутывать следы. Вы просто не сможете угнаться за мной. Поэтому вы останетесь здесь. Я оставлю вам провизию и все оружие, а также телефон. Если у меня все получится, я вернусь за вами или позвоню и дам инструкции, что делать дальше. Если нет, вам придется самой проделать путь до железнодорожной станции, вернуться в город, найти Алекса и пересказать ему все, что я вам рассказал.
– Но как я узнаю, что вы не достигли успеха? – спросила она.
Я пожал плечами, прикинул и твердо ответил:
– Если через три дня я не дам о себе знать, значит, все плохо.
Она кивнула:
– А если они найдут это место? Если придут за мной? – она побледнела и закусила губу.
– Запрете за мной двери на засов. Через окна и крышу они не смогут проникнуть быстро и двери выбьют не сразу. А вы тут же позвоните мне на номер планшетника, он забит в памяти. Если вас возьмут, не геройствуйте, рассказывайте все, что знаете, тогда вас не будут пытать, – я помедлил и добавил: – Под пыткой вы, простите, все равно все расскажете. Делайте вид, что очень боитесь, и смотрите, как можно вырваться.
– Мне не надо делать вид, я правда боюсь, – потупившись, сказала она. – Я боюсь оставаться здесь одна. Но Корпорацию я боюсь еще больше.
– Иногда страх помогает нам. Он делает нас сильнее, – я ободряюще улыбнулся.
– А вы боитесь?
Ее вопрос застал меня врасплох. Иногда мне казалось, что я совсем лишен страха, но… сейчас я боялся. Боялся за маму, за Феликса, за Риту с Марией и даже за Алекса, которого не знал.